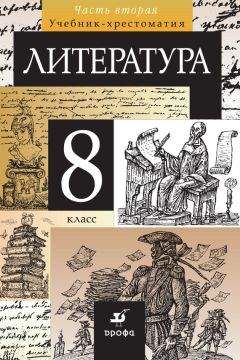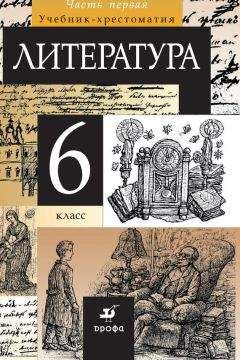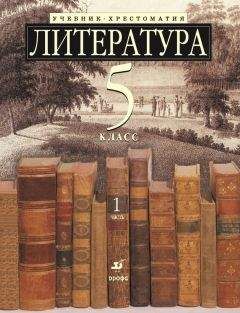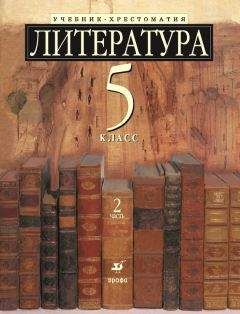И две ночи он уже так сидел в параде, во всей форме.
И вот, когда он так сидел и ждал, под вечер вошел к нему слуга и сказал:
– Граф Растреллий, по особому делу.
– Что ж его черти принесли? – удивился герцог. – И графство его негодное.
Но вот уже входил сам граф Растреллий[26].
Его графство было не настоящее, а папежское: папа за что-то дал ему графство, или он это графство купил у папы, а сам он был не кто иной, как художник искусства. <…>
3
Его пропустили с подмастерьем, господином Лежандром. Господин Лежандр шел по улицам с фонарем и освещал дорогу Растреллию, а потом внизу доложил, что просит пропустить к герцогу и его, подмастерья, господина Лежандра, потому что бойчей знает говорить по-немецки.
Их допустили. <…>
Граф Растреллий поклонился и произнес, что дук[27] д’Ижора – изящный господин и великолепный покровитель искусств, отец их, и что он только для того и пришел.
– Ваша алтесса[28] – отец всех искусств, – так передал это господин подмастерье Лежандр, но сказал вместо «искусств»: «штук», потому что знал польское слово – штука, обозначающее: искусство. <…>
Тут Растреллий сказал, а господин Лежандр пояснил:
– Дошло до его слуха, что когда император помрет, то господин де Каравакк хочет делать с него маску, и господин де Каравакк не умеет делать масок, а маски с мертвых умеет делать он, Растреллий.
Но тут Меншиков легонько вытянулся в креслах, воздушно соскочил с них и подбежал к двери. Заглянул за дверь и потом долго глядел в окошко; он смотрел, нет ли где изыскателей и доносителей.
Потом он приступил к Растреллию и сказал так:
– Ты что бредишь непотребные слова, относящиеся к самой персоне? Император жив и нынче получил облегчение.
Но тут граф Растреллий сильно махнул головой с отрицанием.
– Император, конечно, умрет в четыре дня, – сказал он, – так говорил мне господин врач Лацаритти.
И тут же, поясняя речь, ткнул двумя толстыми и малыми пальцами вниз, в пол, – что именно в четыре дня император, конечно, пойдет уже в землю.
И тут Данилыч почувствовал легкий озноб и потрясение, потому что никто еще из посторонних так явно не говорил о царской смерти. Он почувствовал восторг, что как бы восторгают его над полом и он как бы возносится в воздухе над своим состоянием. Все переменилось в нем. И уже за столом и в креслах сидел спокойный человек, отец искусств, который более не интересовался мелкой дачей.
Тут Растреллий сказал, а господин подмастерье Лежандр и министр Волков перевели, каждый по-своему:
– Он, Растреллий, это хочет для того сделать, что той любопытной маской он надеется приобрести большое внимание при иностранных дворах, и у Цесаря, равно как и во Франции. А зато обещается он, Растреллий, сделать маску и с самого герцога, когда тот умрет, и согласен сделать ему портрет, медный, небольшой, с герцогской дочери.
– Ты ему скажи – я сам с него маску спущу, – сказал Данилыч, – а с дочки пусть сделает середней величины. Дурак.
И Растреллий обещался.
Но потом, потоптавшись, побулькав толстыми губами, он вытянул вдруг правую ручку – на правой ручке горели рубины и карбункулы – и стал говорить до того быстро, что Лежандр и Волков, открыв рты, стояли и ничего не переводили. Его речь была как пузырьки, которые всплывают на воде вокруг купающегося человека и так же быстро лопаются. Пузырьки всплывали и лопались – и наконец купающийся человек нырнул: граф Растреллий захлебнулся.
Потом герцогу доложили: есть искусство изящное и самое верное, так что нельзя портрет отличить от того человека, с которого портрет делан. Ни медь, ни бронза, ни самый мягкий свинец, ни левкос не идут против того вещества, из которого делают портреты художники этого искусства. Искусство это самое древнее и дольше всего держится, еще со времен даже римских императоров. И вещество само лезет в руку, так оно лепко, и малейший выем или выпуклость, оно все передает, стоит надавить, или выпятить ладошкой, или влепить пальцем, или вколупнуть стилем, а потом лицевать, гладить, обладить, обровнять, – и получается: великолепие.
Меншиков с беспокойством следил за пальцами Растреллия. Маленькие пальцы, кривые от холода и водки, красные, морщинистые, мяли воздушную глину. И, наконец, оказалось еще следующее: лет двести назад нашли в итальянской земле девушку, девушка была как живая, и все было как живое и сверху и сзади. То была, одни говорили, статуя работы известного мастера Рафаила, а другие говорили, что Андрея Верокия или Орсиния.
И тут Растреллий захохотал, как смеется растущее дитя: его глаза скрылись, нос сморщился, и он крикнул, торопясь:
– Но то была Юлия, дочь известного Цицерона, живая, то есть не живая, но сама природа сделала со временем ее тем веществом. – И Растреллий захлебнулся. – И это вещество – воск.
– Сколько за тую девку просят? – спросил герцог.
– Она непродажна, – сказал Лежандр.
– Она непродажна, – сказал Волков.
– То и говорить не стоит, – сказал герцог.
Но тут Растреллий поднял вверх малую, толстую руку.
– Скажите дуку Ижорскому, – приказал он, – что со всех великих государей, когда умирают, непременно делают по точной мерке такие восковые портреты. И есть портрет покойного короля Луи Четырнадцатого, и его делал славный мастер Антон Бенуа – мой учитель и наставник в этом деле, и теперь во всех европейских землях, больших и малых, остался для этого дела один мастер: и тот мастер – я.
И пальцем ткнул себя в грудь и поклонился широко и пышно дуку Ижорскому, Данилычу.
Спокойно сидел Данилыч и спросил у мастера:
– А ростом портрет велик ли?
Растреллий ответил:
– Портрет мелок, как сам покойный французский государь был мал; рот у него женский; нос как у орла клюв; но нижняя губа сильна и знатный подбородок. Одет он в кружева, и есть способ, чтоб он вскакивал и показывал рукой благоволение посетителям, потому что он стоит в музее.
Тут руки у Данилыча задвигались: он был малознающ в устройствах, но роскошен и любил вещи. Он не любил художества, а любил досужество. Но по привычке спросил, как бы из любознания:
– А махина внутри или приделана снаружи, и из стали или железная – или какая?
Но тут же махнул рукой и сказал:
– А обычай тот глуп, чтоб персоне вскакивать и всякому бездельнику оказывать честь, да и не время мне сейчас.
Но после краткого перевода Растреллий поймал воздух в кулак и так поднес герцогу:
– Фортуна, – сказал он, – кто нечаянно ногой наступит – перед тем персона встанет, все то есть испытание фортуны.
И тут наступило полное молчание. Тогда герцог Ижорский вынул из глубокого кармана серебряный футляр, достал из него зубочистку и почистил ею в зубах.
– А воск от литья, от фурмов[29] пушечных что остался, – на тот портрет годится? – спросил он потом.
Растреллий дал гордый ответ, что нет, не годится, нужен самый белый воск, но тут вошла Михайловна.
– Зовут, – сказала она.
И Данилыч, светлейший князь, встал, распоряжаться готовый. <…>
5
Всю ночь он трудился во сне, ему снились трудные сны.
А для кого трудился? – Для отечества.
Рукам его снилась ноша. Он эту ношу таскал с одного беспокойного места в другое, а ноги уставали, становились все тоньше и стали под конец совсем тонкие. <…>
Он совсем проснулся.
Печь была натоплена с вечера так, что глазурь калилась и как на глазах лопалась, как будто потрескивала. Комната была малая, сухая, самый воздух лопался, как глазурь, от жары.
Ах, если б малую, сухую голову проняла бы фонтанная прохлада!
Чтобы фонтан напружился и переметнул свою струю – вот тогда разорвало бы болезнь.
А когда все тело проснулось, оно поняло: Петру Михайлову приходит конец, самый конечный и скорый. Самое большее оставалась ему неделя. На меньшее он не соглашался, о меньшем он думать боялся. А Петром Михайловым он звал себя, когда любил или жалел.
И тогда глаза стали смотреть на синие голландские кафли, которые он выписал из Голландии, и здесь пробовал такие кафли завести, да не удалось, на эту печь, которая долго после него простоит, добрая печь.
Отчего те кафли не завелись? Он не вспомнил и смотрел на кафли, и смотрение было самое детское, безо всего.
Мельница ветряная,
и павильон с мостом,
и корабли трехмачтовые.
И море. <…>
Дерево, кудрявое, похожее на китайское, коляска, в ней человек, а с той стороны башня, и флаг, и птицы летят.
Шалаш, и рядом девка большая, и сомнительно, может ли войти в шалаш, потому что не сделана пропорция.
Голландский монах, плешивый, под колючим деревом читает книгу. На нем толстая дерюга и сидит, оборотясь задом.
И море.
Голубятня, простая, с колонками, а колонки толстые, как колена. И статуи, и горшки. Собака позади, с женским лицом, лает. Птица сбоку делает на краул крылом.